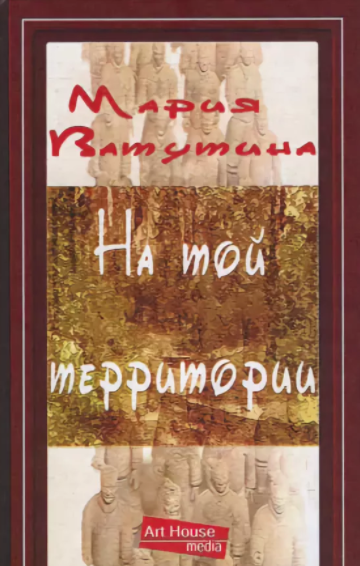Posted 11 ноября 2017,, 07:14
Published 11 ноября 2017,, 07:14
Modified 7 марта, 17:14
Updated 7 марта, 17:14
Мария Ватутина: "И выкриком истошным не подтвердить того, что ты на свете есть."
Мария Ватутина - автор поэтических сборников: «Московские стихи», «Четвёртый Рим», «Перемена времён», «Девочка наша», «На той территории», «Ничья», «Цепь событий», «Небо в алмазах», «Девичник», «Послеслов», «Избранное». Лауреат Волошинского конкурса, премий «Заблудившийся трамвай», «Московский счёт», «Antologia», лауреат Волошинской, Бунинской премий, журнала «Октябрь».
"Новые Известия" недавно уже поздравляли Марию Ватутину, когда она стала Победителем Первого всероссийского турнира «Красная площадь. Время поэтов» - в день рождения А.С. Пушкина - 6 июня 2016 года.
И вот новая блестящая поэтическая победа: Мария Ватутина стала лауреатом в поэтической номинации Премии "Парабола", учрежденной в память А. А. Вознесенского. Во вторник на прошлой неделе в ЦДЛ прошла церемония награждения.
Последние 15 лет - скажем прямо! - Мария Ватутина самый печатающаяся, читаемый, награждаемый и обсуждаемый критиками "первый поэт".
Поразительно, что все эти успехи как-будто провидел сам Александр Сергеевич Пушкин - "Домик в Коломне":
"Фигурно иль буквально: всей семьей,
От ямщика до первого поэта,
Мы все поем уныло. Грустный вой
Песнь русская. Известная примета!
Начав за здравие, за упокой
Сведем как раз. Печалию согрета
Гармония и наших муз и дев.
Но нравится их жалобный напев."
Появлению всего корпуса трагической, прекрасной, печальной и "унылой" лирики Марии Ватутиной мы обязаны неурядицам личной её жизни, несложившейся женской судьбе, на полях которой и написаны стихи. Мария Ватутина как бы внутренний эмигрант своего собственного безрадостного бытования.
Так, если отрешится от последствий величайшей русской трагедии прошедшего столетия, и окинуть позднее наследие Серебряного века холодным взглядом историка литературы, то невольно поразишься, какой мощный толчок эта кромешная трагедия дала творчеству поэтов и самой русской поэзии. Через тысячу лет "Россия распятая" Максимилиана Волошина вероятнее всего и подвигнет будущего читателя ознакомится с событиями, послужившими поводом написания великих стихов.
Подобным же образом, замечательный грузинский поэт Мурман Лебанидзе сказал, прося прощения у Бога за кощунство, что он счастлив, что его друг Симон Чиковани в последние годы жизни ослеп, и слепота дала Чиковани возможность написать лучшие свои стихи.
Стоит ли одно другого? – вопрос неправомерный.
История, как и поэзия, ничего не покупает и не продает.
Трагическая и несчастная судьба – вовсе не товар.
Книгу стихов можно купить, можно бесплатно послушать, как Мария Ватутина читает стихи на видео. Но срок авторского права истечет, и это случится - на удивление! - очень быстро.
И окажется, что стихи Марии Ватутиной - это наше общее наследство, пронизанное холодом неустроенности, одиночеством, вовсе по-пушкински "печалию" не "согретым"...
Критик Дмитрий Бак как бы повторяет прозой строки из "Домика в Коломне" -
" в стихах Ватутиной полная страданий и неурядиц жизнь насельников великой страны...
В жизни героев Ватутиной затруднения и несчастья перевешивают прозрения и удовольствия, лишь изредка выпадающие на их долю; боль, немощь и ощущение неуюта – вот константы их земного существования..."
За каждой драгоценной строкой Марии Ватутиной - которые мне, как читателю, бесконечно дороги, - бесприютность, вздорные события на кухне или в бедно обставленных комнатах, с выцветшими - в разводьях от невесть когда пролитого вина, грязными обоями.
И повсюду - на всех поэтических страницах - женская безысходность.
Личные и даже общественные проблемы, которые и трагедиями не назовешь, настолько они обыденны - въелись в душу, стали фактурой стиха. Беспросветные неурядицы, неудачи, не поправимые ни разумом, ни трудом, ни усердием - повороты судьбы.
Читаешь стихи, и словно бредешь вдоль по обочине, по непролазной российской колее - сострадая неведомо кому, неизвестно зачем и неведомо куда...
Я выставил видео награждения, где о Марии Ватутиной вначале говорит выдающийся поэт поколения, многолетний собеседник Иосифа Бродского - Юрий Михайлович Кублановский. Затем и сама Мария Ватутина пронзительно читает два свои последних стихотворения, и за неделю всего лишь 100 просмотров.
Незаметно для самих себя мы привыкли, что прекрасные и нежные ручки шлют только приветики, и инстаграмовские экранные помахашки через сияющие боковые стекла лимузинов в Куршавеле или Ницце. И поэтому цифры лайков - и в жизни и в "Сети" - отнюдь не в пользу печальной поэзии. Для сравнения: на днях в 9-ь часов вечера Сергей Шнуров выставил свой новый клип "Вояж" - песенку написанную нарочито на корявые стихи, и за час - 350 000 просмотров, а через 12 часов - уже далеко за миллион....


И все эти бесчисленные лайки как раз и есть свидетельство того, что те, которым Мария Ватутина посвящает свой горький поэтический и жизненный опыт, уже приобрели легкомысленные, поверхностные черты.
(Фотографии: Мария Ватутина читает стихи, обложки поэтических сборников, Мария Ватутина и Владимир Козлов - Лауреаты премии "Парабола" , Мария Ватутина и Юрий Михайлович Кублановский - ожидая гостей)
И вот стихи. Сокровенное чтение, для себя, которым нехотя делюсь. Я бы их, конечно, от греха подальше, лишний раз бы не перечитывал. Но тянет поэзия, затягивает, как бездна...
* * *
Я вымыла полы и начала сначала
Планировать разбег, побег и перебег
На сторону врагов, которых обличала.
"Пустите на ночлег, — теперь я им кричала, —
Смотрите, я уже приличный человек.
Я правду не люблю, я ближних привечаю,
Читаю на убой и ем, как воробей,
А в прошлом у меня короткая такая
Безрадостная жизнь, я не грущу о ней”.
Мне открывали дверь то дьяволы, то черти,
Я растеряла все, что было у меня
Накоплено на смерть, и к следующей смерти,
Наверно, проклянет меня моя родня.
Но между двух огней — меж будущим и прошлым —
Особо не скопить, обратно не залезть
В космическую щель и выкриком истошным
Не подтвердить того, что ты на свете есть.
***
Под пустоголовыми звездами, на пустотелом льду
Ночью пустопорожней, когда любовник не состоялся,
Не сгустился из воздуха, я всё чего-то жду,
Вглядываюсь в темень кромешную. Чего же ты убоялся?
Правда твоя, я не была семи пядей во лбу.
Звезд не хватала с неба, не соблазняла исподом.
Не подавала надежд ни царю, ни рабу,
Не могла прельстить ни приданным, ни родом.
Хочешь, всё поменяю, от головы до пят?
Только того и жду, чтобы моё растратил.
Всё, что не на поверхности в человеке – клад,
И ему требуется кладоискатель.
Но где тебе понять, чем богата я, чем полоню
Кого захочу: самодержца ли скоморшка.
Попробуй на вкус губы мои, мою слюну,
Слезы мои многозвучные, как морошка.
Караваны мои идут-идут, полнится скарб.
Забирай богатства мои, я сама копила.
Это я – бесприданница?! Да на преданьях моих сатрап
Становился ангелом, взлетающим под стропила!
Хочешь, я всех твоих врагов очерню,
Хочешь, я тебя обелю перед всеми судами мира?
Хочешь, я столько звезд тебе зачерпну,
Сколько рыб в океане. Трать их вовсю, транжира!
Хочешь, отдам тебе за пядью пядь, за прядью прядь?
Что тебе не так? Чего ты боишься: силлабо-
Тоники? Силы моей? Забирай и силу. Трать,
Сколько хочешь. Я проживу и слабой.
Только надежды во мне не осталось, нет.
Столько лет я ищу тебя, что горят подошвы.
В дали дальние, в космический сонм примет
Вглядываюсь, щурясь, вглядываюсь – не идешь ли.
***
Наталье Поповой
Я твердила себе: не могу, не могу, ну, нет
больше сил моих, Господи, взращивать белый свет,
оберегом быть ему, клеточкой, скорлупой.
Я от света стала выцветшей и слепой.
Так сначала в майской дымке пресветлых утр
в лепестках сирени копится перламутр,
а потом соцветья все набухают мглой,
потому что тяжек свет, словно водный слой.
Из меня струился свет в миллионы душ,
из меня испили свет миллионы глаз.
У меня внутри прокатный стан обнаружь,
и закрой его, Господи, хоть на день, на час.
Я устала, Господи, в этой плавке самой себя,
я давно миллионы раз проходила горн:
от котла со сталью, булькая и сипя,
прорывалась в космос, мордой вонзалась в дерн.
Но светила – пятой точкой, пальчиком из носка,
потным лбом своим и краснотой стыда.
Если есть на свете свет, он и мой слегка,
ты ведь сам просил светить на свои стада.
Посмотри, как свет струят, испуская дух,
на деревьях кроны, на мне больничный халат.
Я совсем погасну скоро, свергая слух
о бессмертии, но образуя облако тысячью киловатт.
Ах, какую ты святошу создал во мне!
Ибо там, где свет разлился, споткнется зло.
Ты доволен мной? Ты такую видел во сне?
Не ссылайся на шквальный мрак, здесь ведь так светло!
Да, светло ль тебе, красно солнышко, от моих щедрот
в снеговой пыли, в ледяном дожде, в торфяном аду?
Я умру, а свет мой будет еще не год
и не два разливаться в этом земном саду.
И откуда он берется всегда во мне,
словно в том колодце, где блещет звезд отраженный свет,
на такой недосягаемой глубине,
что порою кажется: дна в человеке нет.
* * *
Ну, что ты, моя хорошая, ну, что ты?
Уедем от этих варваров на болоты.
Там, за болотами, белая гладь морская,
Посадишь дерево – вырастет свая.
От варваров, милый, от варваров, к идеалам.
Возлежать под расшитым бисером одеялом,
Гулять над каналами вдоль золотых мозаик,
Качаться в лодочке, глядеть на чаек.
Ну, что ты, моя хорошая, ну, что ты?
Забудь о прошлом, время ушло в пустоты,
Виски мои, крепость корней обнаружив,
Стали белее венецианских кружев.
Милый, ты будешь дож, а я буду дождь, дрожанье,
Глубин морских древесное дребезжанье,
Лиственницей, окрепшей в соленой плазме,
Разве хотела я быть всемогущей, разве?
Ну, что ты, моя хорошая, ну, что ты?
День-то какой прозрачный, чище работы
Я еще не видел у местных ангелов-стеклодувов,
Разве что ты да первый томик Катуллов.
Спроси у святого Марка, милый, или у Льва Толстого,
Как рождается сложное из простого?
Сколько еще нам жить на наших болотах,
Пока весь мир утопает в рабах и готах?
Ну, что ты, моя хорошая, ну, что ты?
Краток век красоты, но вечны высоты.
Мы бежали сюда нагими, как Маркус из Гефсимана,
А уйдем отсюда и вовсе волной тумана.
Говори еще, я слов твоих воплощенье.
Рим разрушен молчанием. Изреченье
О Божьем Граде не поняли эти вандалы, гунны,
Скопившиеся по берегам лагуны.
* * *
Когда я осталась одна на Земле,
Настолько, что вымерла речь,
Любовь – как записка на голом столе –
Всё тщилась мне руки обжечь.
На что мне она? От нее не испить,
Кому ее нынче сбывать?
Любовь я решила тогда истребить
И стала ее убивать.
Я способы знала, на мне рецидив,
От странствий истерся подол.
Из прошлого зелье обид нацедив,
Я ей подавала на стол.
Топила в беспамятстве – душной реке,
Гнала на неправедный суд.
Висела она на моем волоске,
Но мной управляла и тут.
Портреты я спрятала, письма сожгла,
Чужим раздала послеслов.
Любовь в нелюбви выживала, жила
Моя неземная любовь.
– Что дальше? – кричала я, строчки дробя,
Но, видимо, с первого дня
Не я убивала ее из себя,
Она убивала меня.
Поколение
А у нас либералы справляют свое торжество
Над директором школы. Но так ли уж действенен вынос?
Я не помню России, в которой жила до того,
Как душа очерствела и память моя обновилась.
Боль — такое явление, — в памяти нет этих луз
Для хранения боли. Она растворяется в теле.
Но, клещом прогрызаясь, названье “Советский Союз”
Угрожает доселе моей кровеносной системе
.
Звукоряд налагается точно на видеоряд.
Это та же столица — и здания не заменили.
Существует во мне — и херсонских полей аромат,
И чимкентский хлопчатник, и Таллина хмурые шпили,
И гульба на Покровке с бумажным цветком на шесте.
Интенсивность труда и досрочный итог пятилетки.
И как будто насыщенность света сильнее, чем в те
Времена, когда нас отпустили из сломанной клетки.
Как тебе объяснить, что такое тоска по тюрьме?..
Если ты в ней родился и вырос, никем не обучен
Жить на воле, забыть о расправах, не рыться в дерьме,
Не трястись, осуждая того, кто давно уже ссучен.
Впрочем, кухонный стан не прошли мы по младости лет.
Нам потом приходилось самим обвыкаться на воле.
И в стокгольмском отеле рыдать, запершись в туалет,
После встречи случайной с холеной старухою в холле.
Ну конечно же сытая благость ее — ерунда,
И загар, и ухоженность эта. Но если б спросили:
“Матерям из России такими не быть никогда?” —
Я б ответила горько, хоть я и не помню России.
Я не помню позора, собраний, запретов, речей,
Югославских сапог, гэдээровских тряпок заветных,
Анонимок в профком, и последующих параличей
Горемыки моей, и скитаний ее несусветных.
А мое поколенье теперь все сидит по домам,
Занимаясь не самосожженьем, а самовнушеньем.
Мы мутанты с тобой — да какими ж и вырасти нам,
Детям улиц снесенных, спартанцам, привыкшим к лишеньям.
Мы и там побывали, и здесь составляем костяк,
Поколенье разлада, живущее в век беспредела.
Передела не будет уже. Только что-то не так.
Только память бела. И душа у меня очерствела.
Родина
Плыву слегка по воздуху, по воле
Причин, опричь которым рождена.
Я знаю, это ты меня в подоле
Несешь домой, гулящая страна.
Вот так ты возвращаешься — задами,
На душный запах липы и сосны.
А в твой подол вцепились, словно в знамя,
Твои полуголодные сыны.
История тебя не обуздает
И не прогонит, но взгляни назад:
Какой же царь-отец теперь признает
Нагулянных тобою чертенят?
А сколько нас таких ты рассовала
По уголкам земли, по чужакам.
Уж лучше бы ты вовсе не рожала,
Чем убивать детей и строить Храм,
Где свято место пусто на иконе.
...Но почему в обители любой
Мы узнаем друг друга по ладони —
По линии вины перед тобой?
К сокурснице
Ты в этом городе как в омуте:
Уже и дно недалеко.
Не спишь в шелках, не ешь на золоте —
Волчица носит молоко.
С тобою сестры мы и сироты,
От нас пойдет Четвертый Рим.
И созидать, и править в силах ты
Одним лишь именем своим.
Над величавыми руинами
Былых серебряных веков
Мы выросли непобедимыми
На попечении волков.
И в каждом городе, что горбится
Над каждой гривенкой своей,
Уже лепечут наши горлицы,
И наши горницы светлей,
И наши голоса торопятся
Познать родительскую речь.
И печи варварские топятся,
Где наши книги будут жечь.
* * *
Детство, детство — школа несвободы.
Надо мной сомкнулись небеса.
Мне теперь все снятся пароходы,
лопасти гребного колеса
бьют о воду, и в иллюминатор
брызжет Волга, ломится в стекло.
Если встать — увидишь весь фарватер;
в третий класс, однако, занесло.
Вровень с Волгой волглая каюта.
«Станюкович» жмет в последний рейс.
Бабушка за дверью врет кому-то,
что для близких я — тяжелый крест.
На речной скрипучей колеснице
Едем в Углич месяцы... года...
Говорят, что не к добру мне снится
постоянно мутная вода.
* * *
Весною пугают приметы залета:
плаксивость, прожорливость, норов дурной...
В далекой стране окольцованный кто-то
бронирует чартер и хочет домой.
Он хочет домой, чемоданы пакует
и дату отлета с улыбкою ждет,
уже фантазируя, как заворкует
на жердочке возле Никитских ворот.
Смакует предчувствие зла и разлада,
разливы, развалы, Владимирский тракт,
которым помчится под музыку ада,
виляя рулем и газуя не в такт.
И вот он летит, и полет его долог,
и он приставляет к надлобью крыло.
И ждут его дома жена-орнитолог
и ангелы смерти, родные зело.
Ах, как возвращаются спешно пророки
в отчизну, где каждое слово сбылось,
где черная кровь регулярно и в сроки
приходит и радует: вымрем авось.
* * *
Мне везде мерещатся змеи, крысы и жабы.
Только то спасает, что фауна без амбиций
и не лезет через бордюр на дорогу, дабы
не пугался путник, не трусил турист бледнолицый.
Дышишь? дышишь? дыши, запасай кислород, купальщик,
выдыхай углекислый газ, приморясь в оливах,
заберут наверх без калыма семье как падших,
так и благочестивых.
Я хочу на полюс, где крест заходящего солнца
не мешает душе с небесами устроить сверку.
— Не учи меня жить! — прокричу я со дна колодца.
— А чему тебя научить? — прокричат мне сверху.
Чаепитие
1.
В это время гуляешь с собакой, а я звоню.
Есть желанье подумать о жизни вслух. Заменить броню
на раскаянье, жалобы, приговоры: «Пора кончать
с безнадежным романом». А зуммер: молчать! молчать!
У тебя у самой...
Завести себе кобеля
и уехать в Германию. Навсегда. В канун февраля.
Подыскать себе эру, где несостыковок нет,
где неоновый свет, а для жалоб есть Интернет
(здравствуй, Гегель). Уеду. Брошу все. Истреблю.
Не люблю его. Не люблю. Не люблю.
2.
Чаепитье выводит на чистую воду всяку породу.
Вот она узнает, что планирует он год от году
жить с семейством на даче, что строг он в вопросах порядка.
Что-то смутно печалит ее: непослушная прядка,
неуменье заваривать чай и нехватка салфеток.
Ей бы деток.
Вдруг она понимает, что все бесполезно.
Тридцать первый любовник ее взирает болезно,
но глотает взмутненную жижу: вода и заварка.
Ему жарко.
Из того, что не дали ей предыдущие тридцать,
он не даст ровно столько же. А она все стыдится
неумелого чая и собственной жизни настолько,
что еще одно слово его —
и будет настойка,
еще капля — и переполнится, лопнет, прорвется.
Он смеется.
Дожидается пота. Платок достает. Ничего ей не обещает.
А она угощает его. А она его угощает...
* * *
Осень художников. Время последних пиршеств
Где-нибудь на правительственной заимке.
Вот бы перенести тебя от твоих излишеств
В наши-то недоимки.
Глядючи на убогость, на сирость счастья,
Коим довольствуюсь я без мольбы и надлома,
Взял бы меня хоть какой-нибудь ветвью власти.
Да где тебе, деловому!
Где ты теперь, когда моросит глумливо
Над пепелищем нашим осенний морок?
Снова дела на том берегу пролива?
Ну, неужели и мне будет сорок?
Скоропостижны связи, перегорает нега
Шумной феерией спички и с тою же быстротою.
А у меня в Москве обвалилось небо
Где-то за шереметьевскою верстою.
Неглинка
День знаменателен,
хоть оставляй засечки:
Подсинен, подосинен, осиян.
Нельзя купаться в подмосковной речке,
Да и не речка это, а фонтан.
Ещё вчера здесь был кафе-шалман,
Где Карамзин снимал напряг от лекций.
Наполнен надмосковный океан,
Но опустел желудочек у сердца.
Мутировал от массовых селекций
Весь грунт российский, лучше образцы
Не брать. Но от метро не отвертеться —
Не бойся, это ж наши мертвецы.
О, это стильно — жить среди фарцы,
Почти на ветке, на пусто’тах — что ты!
Весь город держат урки и пустoты.
Нет! Пустота и крёстные отцы.
А праотцы встречаются порою
В метро: я узнаю их бледный лик.
И кажется, что там, под пустотою
Ещё есть твердь, Неглинка, Китеж, Троя,
Иль Третий Рим, иль красный материк…
* * *
Этому рыжему делают биографию.
Волга белая. Белый простор.
Долголетний генплан Ярослава.
Молока из ведра, и — для славы —
из «макарова» — пули в упор.
Биография — плата властей
за любовь к своему государству.
Ты оплачен с лихвой, богатей,
рядовой постсоветского барства.
Плещет Волга в своих берегах.
Ты, приверженец дома в деревне,
научился у Анны Андревны
оставаться в веках.
Но века производят возврат.
То-то тучам сгустившимся рад
всякий сущий, кураж создающий:
диссидент, прокурор, нумизмат,
всяк, поэтом себя сознающий.
Покуражим ещё на костях,
защитим тебя русское слово -
сочетание «снова-здорово»,
возрождайся, целительный страх.
Возвращайся! Живи у черты,
примени своё чувство гражданства
там, куда так наяривал ты
по зыбучим пескам государства.
* * *
В нас еще проявится, взойдет
что впитали в детстве мы с дюшесом:
навык тираний, имперский код,
предпочтенье высшим интересам.
Классовость, партийная мораль,
вбитые, как гвозди, в нас по шляпку.
Убежим от этого едва ль
мы, еще ученые порядку.
Мы, уже принявшие хаос
в качестве религии свободы,
станем на любой больной вопрос
сотрясать проклятиями своды.
Это в нас проявится потом
фобией, маразмом иль синдромом
где-нибудь в собесе за мостом,
где-нибудь на лавке перед домом...
* * *
Помнишь, переходили дорогу в неположенном месте?
Снег повалил: ни вернуться, ни разгрести.
А сойдя с перрона в ночном предместье,
Где в инцесте живут поэтессы с поэтами, ты в горсти
Зажимал мою кисть, как клинок для мести.
Или помнишь, я, оборачиваясь и дрожа,
Как в убежище из стекла и бумаги,
Забегала в дом твой.
От гаража
Отделялась тень вековой коряги,
Черт-те кем поставленной в сторожа.
Беспокойно, чутко спала округа.
Вьюги вьюн обвил околоток тьмы.
Было нужно нам предъявить друг друга
Небесам, под которыми ходим мы!
Твоему Небу и моему Небу.
Так предъявляют новую негу
Разлюбившим нас, бывшим, любившим нас.
...Приходила дворняга в неподходящий час.
Напилась и вышла. Ушла по снегу,
Не оставляя следов...
* * *
Скоро настанет возраст, в котором ты
Влюбишься в предсказуемость суеты,
Где беспокойство, словно зона конфликта,
Не заползает в квартиру твою из лифта.
Было в начале Слово. Потом разлад.
Кровоточили десны. Свихнулся брат.
В гору пошел другой. И пришла жена,
Ужином накормила, дала вина.
Все залечила, выстирала, сожгла.
И — зажила.
Житель контекста Библии, библиофил,
Кто адским яблоком горло твое забил?
Слово забыл. Ты Слово забыл, с которым
Был не в ладу, которое брал измором
И сочинял планету, ремесла, саги,
Цивилизации, вечное на бумаге
Тленной. А нынче телу диктует позу
Только брюшко и ужина ждет, что дозу.
И неотрывно, словно в рецепт провизор,
Смотришь ты до полуночи в телевизор.
ОСЕНЬ
Языческая осень фантастична,
Она столична даже под Москвой,
Она и по целебности — горчична,
Но по окрестной гамме цветовой.
У вас тут непонятные порядки,
А беспорядки поняты давно.
В таких угодьях не разводят грядки,
А любят женщин или пьют вино.
Я — исключенье. Здесь меня не любят.
Как — жертвоприношенье к алтарю
Любить-то в самом деле? Кто-то срубит
Мне лодочку потом, когда сгорю.
Вот в этом тупике перед калиткой,
Куда ведут две старых колеи…
Здесь поневоле станешь сибариткой,
Когда перезачтутся дни твои.
Когда сочтутся все твои геройства,
И святость, что у грешников в чести.
И территориальное устройство
Окажется землёй в твоей горсти.
Мне избежать сожженья —
что накликать
Беду на этих дачников. И ты
Измучишься, когда начнут курлыкать
Фантомы из небесной пустоты.
Мне жаль тебя, не ведавшего страсти,
За все грехи платящего вперёд.
Ваш председатель дачного хозяйства
Тебя ещё в оракулы возьмёт.
Я никогда не видела, чтоб ветер
Вздымал листву и гнал её наверх,
На взгорок, где уже созвали вече
И ждут тебя, холодный человек.
Придай же легитимность приговору…
…Сквозь космы листьев,
сыплющихся с лип,
зелёный «джип» легко уходит в гору
с простонародным прозвищем Олимп.
На склоне лет
Вячеславу Харченко
На склоне лет, на поле битвы,
На кухне с газовой плитой
Ты будешь благостней Бахыта,
А я стервозной и больной,
И будет лавочка забита
Для тех, кто послан нам судьбой.
Мы выучим все варианты
Исхода битв, причины войн.
Вернувшиеся эмигранты
Передадут нам жребий свой.
Придут и гранты за таланты
В наш старый штабик становой.
Эгоистично веря в Бога,
Мы воздадим ему хвалу
За то, что, словно томик Спока,
Пылится Библия в углу,
За то, что мы ему служили
Стихами сирыми подчас.
За то, что мы всю жизнь дружили
Без дураков и выкрутас,
За то, что ангелы кружили
В седых бородках возле нас.
Ах, эти ангелы седые,
Хранители, отцы, витии,
«Аляски» ласковый распах
И боль торпедника в глазах.
Невидимые, словно капли
Гроз, грохотавших стороной,
Они уйдут. И нету кальки,
Чтоб срисовать их нрав смурной,
Раздрай их душ, игру в скакалки
С тяжеловесною страной.
С напитком новым та же чаша
Да не минует нас с тобой.
Слабохарактерная наша
Плеяда ангельской гурьбой
Сама ничтоже не сумняша
Желала жребий роковой.
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
"Прекрасна родина, чудесно жить в ладу..."
Е. Р.
Живи по-дачному: складируй вещи здесь,
На столике журнальном ешь и стряпай.
Переселенья маленькую месть
На этот раз тебе не мама с папой
Устроили.
Физический износ
Настолько материален — диву дашься!
И как бы славно телу ни жилось,
Ему придется с адом повидаться.
Грустна, неповоротлива, слаба.
Слова произносить поднадоело.
Молчи, гортань! Остановись, судьба!
Не мучай дальше немощное тело.
В жилище новом холод и бардак.
Скажу я вам, переселенье — мрачно,
Когда тебе до сорока пятак,
А тишина в квартире многозначна.
Неприхотливую приготовляй еду.
С могилою не сравнивай квартиру.
Прекрасна родина. Чудесно жить в аду,
По АДресу, неведомому миру.
* * *
Кухня. Кафельный пол.
Варится кофе в турке.
Черные стулья. Стол.
В пепельнице окурки.
Солнце лезет в окно,
грузное, словно слово
«предопределено».
Утро. Четверть восьмого.
Мало того, апрель.
Резкая тень от двери.
Кто-то предусмотрел
женщину в интерьере.
Знает сосновый бор,
знает плющ на заборе,
знает дверной затвор,
что здесь случится вскоре.
Тема определена.
Мир этот вряд ли женствен.
В том уж ее вина,
что ее взгляд торжествен.
В том, что на целый вздох
чувство ее короче
стало, когда заглох
бешеный морок ночи.
Сбудется лишь потом
предназначенье это —
даже бросая дом,
в нем оставаться где-то:
за шевеленьем штор,
за разворотом двери.
Чтобы глядел в упор,
чтобы глазам не верил,
воздух глотая ртом,
жаждал сердечных капель,
чтобы метнул потом
пепельницу о кафель.
Щелка стальных ворот...
Слаще любви — свобода.
Не предостережет
женщина от ухода.
Молча придержит дверь
и — не уйдет, конечно.
Худшая из потерь
та, что с тобою вечно.
* * *
Какой ты теперь, по прошествии долгих веков?
Брюзга ли, объевшийся нежности, как пирогов?
Ханжа, неудачник, банкир о кольце золотом?
Нашел ли ты счастье и что там, за счастьем, потом?
А я так и вижу тебя, и бесцветен твой лик,
как будто затерт, чтобы не было больше улик,
как будто размыт, и мне кажется, там, за дождем,
ты прячешься где-то в неведомом мире, в другом.
И все же ты рядом, поблизости, встречу того
гляди и, пожалуй, уже не скажу ничего.
Я думала, умер, я думала, загнан, изгой!
А ты вот таким оказался — пустышкой, брюзгой.
Но шарит в толпе мой надежд не растративший взгляд,
как будто не может поверить в реальность утрат.
* * *
Я день скоротала, и свет погасила,
И спать улеглась, отвернувшись к стене.
Какая-то потусторонняя сила,
Паркетом скрипя, приближалась ко мне.
И тюль надувался, и таяли стены,
И капала капля, когда на крыльцо
Все предки мои от границ Ойкумены
Вступили и молча забрали в кольцо.
Общинные старосты, конюхи, бабы,
Царёвы крестьяне, стрельцы, звонари, —
Столпились покойнички поодаль, абы
Чего не случилось со мной до зари.
О, что я затронула нынче при свете,
Какие открыла гробницы во сне,
Что хлынули древние волости эти,
Как будто врата есть какие во мне?
О, книга моих совпадений с пространством
И временем, ты ли разверзлась на миг,
И кровная связь с переполненным царством
Небесным была установлена встык
На клеточном уровне, что ли. Ну, что вы
Молчите, славяне мои, издаля?
Мне страшно, но я не свободна от Слова,
Которое Бог и родная земля.
Я всех вас несу на хребте позвоночном
Века, но с того и загривок силен.
А гости молчат в соответствии точном
С молчаньем еще праславянских племен.
О, что вы оставили мне на прожиток
Разбитых корыт и колен окромя,
Хотя бы какой-нибудь слиток ли, свиток
О том, через что Бог помилует мя,
Хотя бы какой-нибудь в горсточку полбы,
Какой-нибудь сказки в грядущие сны!
О, кто вы, какие вы, темные толпы,
Мои Балалыкины и Зимины?
Пустите, Иваны, Ивановы дети,
Небесные силы, Господня родня! —
Шептала я им, а они на рассвете
Один за одним уходили в меня:
Курчане, тверчане, черкизовцы, ниже-
городцы, воронежцы, тульцы, а там
Древляне, поляне, кривчане и иже
Михаель, Ирад, Енох, Каин, Адам.
* * *
В Москве дожди идут из облаков,
Светящихся на черном небе, словно
Сто лун за ними, нимбов, маяков,
Сто белых стай, воркующих любовно.
Смотри на свет! Он может нас спасти,
Я сотни раз проделывала это.
А что тебе на память привезти
С того недосягаемого света?