Posted 16 декабря 2017,, 07:36
Published 16 декабря 2017,, 07:36
Modified 7 марта, 17:15
Updated 7 марта, 17:15
Олег Мраморнов: "Кроме нас, кто помянет скрижали? Кто поставит последний вопрос?"
Олег Мраморнов родился 1952 году на Волге в гор. Тутаеве (бывший Романов-Борисоглебск).
Детство и юность провел на Дону.
Автор стихотворных сборников: “Когда возмутилась вода”, “Окно”, “Берега”, многих книг прозы, стихотворный переводчик с сербского.
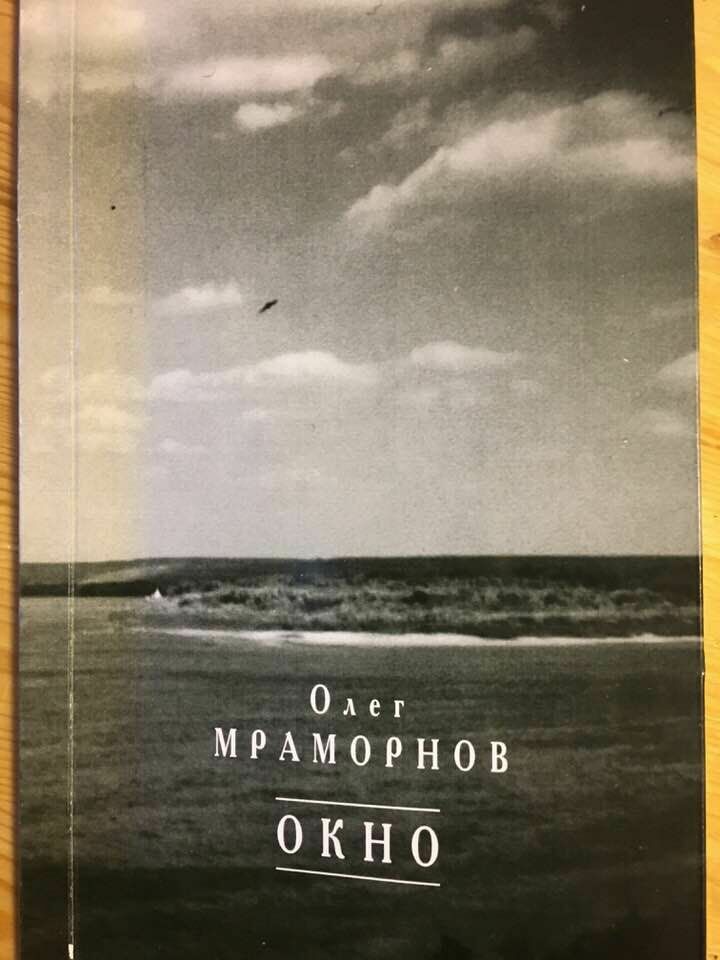
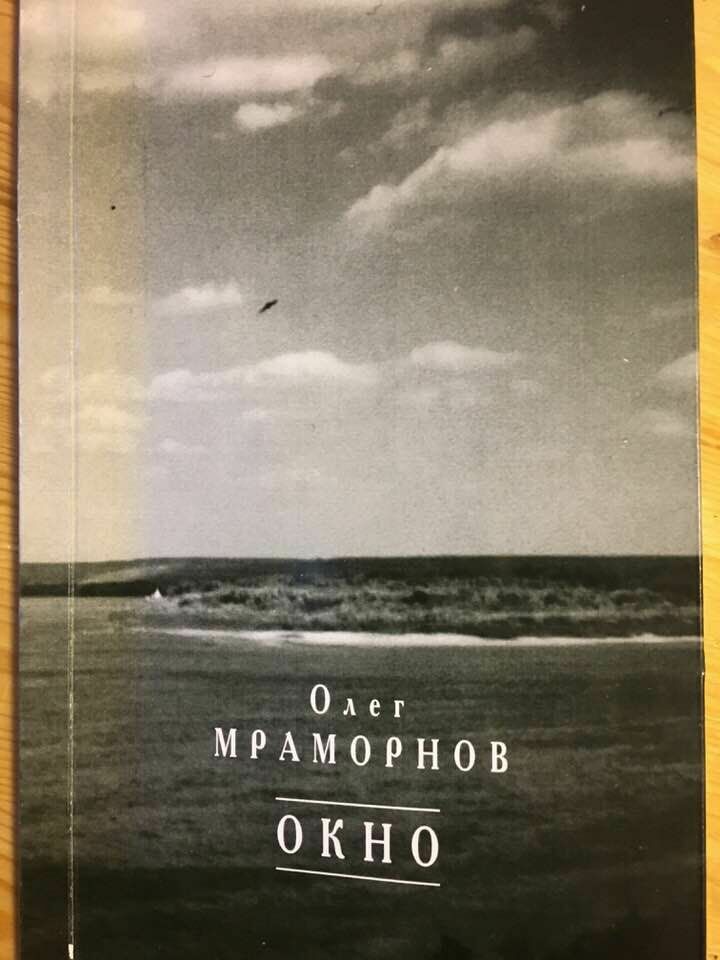


Вольный, свободолюбивый дух казачества отмечен на всех страницах истории России, и на самой её карте имена казаков: Хабаров, Дежнев, Ермак стали городами, мысами, проливами. Со времён Ивана Грозного казаки по собственной воле, и, главным образов, по царским повелениям и указам, освоили Сибирь, открыли Камчатку. Благодаря походам казаков, расширился ареал русского языка.
Поэт Олег Мраморнов вырос в станице Кременской, и стал наследником и продолжателем великих литературных традиций и имен казачества - Михаила Шолохова, Николая Келина, Николая Туроверова. Авторские семантическое поле Олега Мраморнова лишено современных изысков, но, может быть, именно поэтому негромкий, но пронзительный голос звучит сквозь строки. Ясный твердый, порой нарочито безыскусный голос поэта хватает за душу.
Зоркое историческое зрение, внимательный ищущий взгляд Олега Мраморнова охватывает не только бескрайние просторы донских степей. Его стихи - о судьбах христианства, и даже служебная командировка Федора Тютчева в Грецию почти двухсотлетней давности служит поэту для тонких аллюзий, открывает неожиданные исторические ракурсы.
Поэт переосмысливает собственный текст в момент написания - и это верный признак отсутствия предварительного замысла. Поэт - по пушкински! - творит в момент написания. И хотя Олег Мраморнов блестящий переводчик с сербского, переводческий навык - слава Богу - не въелся ему в руку, хотя дух первооткрывателей и первопроходцев скучает в безысходности вынужденного домоседства. Мотивы Олега Мраморнова порой повторяются, но тут же переплетаются с другими мотивами, и возникает свойственная только ему интонация и поэтика. Вот что говорит сам поэт о творчестве:
“Семья жила на Дону, в станице Кременской. Всю жизнь я связан с Доном. Пишу об этом и в последней книжке - у меня есть много стихотворений, связанных с историей казачества. Об этом же и моя проза. Недавно у меня вышла книга, посвященная казачьим писателям и поэтам. В ней и о Николае Туроверове - поэте, авторе знаменитого стихотворение о коне, плывущем за уходящем кораблем, и о Николае Келине. Написал я и о Федоре Крюкове, и о Романе Кумове - менее известном, но очень хорошем писателе. Оба они умерли в период гражданской войны.
Но тот трагический период давно прошел. И по моему убеждению, это разделение - “на красных и белых” не следует продолжать. Об этом еще в 1944 году тот же Николай Туроверов написал:
“Не для того с тобой мы уцелели,
Чтоб вместе за Россию умереть…”
Конечно, эта была великая, величайшая трагедия, но теперь уже другие баррикады, и войну, которая давно закончилась, нет никакого смысла продолжать.
Надо жить будущим. Я совершенно согласен с великим историком Ключевским, который сказал, что в “сегодняшнем дне слишком много прошлого”. В нашем сознании слишком сильна привязка к истории. С моей точки зрения, такая чрезмерная привязка даже излишняя.
По поводу авторства “Тихого Дона” мое мнение однозначно - роман написал Михаил Шолохов, а Федор Крюков е нему отношения не имеет. Разумеется, Шолохов пользовался какими-то материалами, под рукой у него были и дневники белых офицеров. Михаил Шолохов был очень быстрый и очень сильный беллетрист, хоть и малограмотный. Солженицын ему предъявляет упрек - почему он не вмешивался в редактуру, в правку романа. Да потому и не вмешивался, что он сам лучше всех знал о своей малограмотности.
Но как художник, скомпановавший и вместивший само время в текст великого романа - Шолохов не имел себе равных. Он, несомненно, гений…
Сейчас новая литературная волна идет с юга России, и подпитывается в том числе донскими авторами. Ведь и Солженицын был с юга. Хотя в станицах сейчас положение не завидное. Я очень связан со средним Доном и там сейчас нет работы для молодежи.
Часть среднего Дона - три округа - были переданы в свое время Волгоградской области. Там сейчас работает прекрасный писатель Василий Макеев. Там сейчас очень хорошая молодежь - я часто езжу туда, выступаю перед ними. У и меня есть на них надежда.
Литература сейчас на подъеме, но именно в том смысле, что пишущих много. Издательская же политика сейчас такова, словно книги читают, чтобы шума метро не очень слышать или глаза приморить перед сном. Настоящая литература вымывается из общественного сознания…
Полностью видео интервью - https://www.youtube.com/watch?v=jd4cU9l_ROk&feature=youtu.be.


В стихотворении, посвященном Николаю Туроверову, есть такие строки:
"Кто принимает всерьез казака?
Но не только рубила его рука.
Парижский угол, стило, стихи,
И Бог прощает ему грехи..."
Хочется добавить, что самому Олегу Мраморнову озарениями Бог воздал за его труды, и думы.
И вот стихи поэта:
В ОСНОВАНИЯХ ЖИЗНИ
Поклонись русской бедности – сызмала
Ты пред ней в неоплатном долгу.
Чем заплатишь за нудную изморозь,
За распутицу, слякоть, пургу.
Деревенское лето далёкое.
Сушь мотыжка о землю звенит.
И над нашей артелью убогою
Коршун в небе высоко парит.
В знойном мареве солнце белёсое,
Ест картошку прожорливый жук,
Где в безвестности детство курносое
Робко длило восторг и испуг.
Ранец полон, и речка становится:
Наледь, крошево, сало, шуга.
Журавель, две жердины, околица.
Индевеют, белеют луга.
Лампы свет над чернильною прописью,
Знай рисуй свои буквицы всласть.
Ты ещё никуда не торопишься
И не знаешь, что значит пропасть.
Если б знать, да зачем это знание –
Зуд дороги, небось, посильней.
Лишь бы вырваться – и расставание,
Сполох лиц, колыханье теней.
В основаниях жизни теряется
То, что ей и потом предстоит,
То, что бедствует, терпит, старается,
Возвращается, снится, манит...
ПЕРЕЛИВЫ РОДНЫХ ПЕСЕН
Нестерпимым удушием сдавит
Кой-как прожитый муторный день.
Вечерок не замедлит – добавит,
Закружит твою жалкую тень.
Всюду город, огромный и гулкий,
Обезлюдевший, чёрствый, пустой;
Здесь твои адреса, закоулки,
Ритмы, сбои, борьба со тщетой.
Завернёшь ты к дружку-горемыке,
И затянете песню свою,
Обстояния злые размыкав,
Попадёте в струю-колею.
Ты причастен ли правде понурой
Или так, по привычке сипишь,
Что мечтой на кобылке каурой
Вслед за вольным распевом летишь?
Вольных песен родных переливы
Нас с тобою спасали не раз:
Представляли равнины, разливы
И слезу выжимали из глаз.
Мы с тобою на них возрастали,
Наш питомник травою зарос.
Кроме нас, кто помянет скрижали?
Кто поставит последний вопрос?
Ты не рабствуй пропащей натуре,
На холмы отлетая душой,
И тогда вопреки здешней дури,
Глянет родины образ простой.
БЕЛЫЙ ШИПОВНИК
Цела та лощина, где вместе
Когда-то бродяжили мы,
Без всяких живут происшествий,
И скат, и подъём, и холмы.
Блаженное чувство свободы
Открылось нам с этих холмов,
Пусть всуе мятутся народы,
Ища пропитанье и кров.
Для всех одинаково вечен
Шатёр голубой тишины,
Где слов нам хватало для песен,
И были слова те верны.
А новости здешнего мира?
Что проку в них – это не в счёт.
Укромно и неопалимо
Наш белый шиповник цветёт.
***
Ракушки со дна реки,
Раскрытые и неживые,
Мальчонкой я их впервые
Собрал и бросил в пески.
Ах, как давным-давно
Знаю я эти косы,
Отмели и откосы,
Речное дно,
Щётку скошенных трав.
Запах ботвы, полыни,
Вербу на луговине,
Песка и ила состав.
Срезая ивовый прут,
Увидел – где чаща реже –
Тени скользят, зовут,
А я и не жил.
В ОСЕННЕЙ СТЕПИ
В сухой траве посвистывает ветер.
Седые ковыли
Горбатят спины, провожая лето,
И гнутся до земли.
Увалы мощные, бесстрашья и покоя
Надёжные щиты.
Кто этот холм воздвиг уверенной рукою?
Кто здесь растит цветы?
И кто здесь жил, когда, какие кочевали
Здесь орды, племена?
Их след исчез, века их миновали,
Забылись имена.
На склоне монастырь, давно там догорела
Последняя свеча,
Насельники ушли, в тончайший прах истлела
Церковная парча.
Прозрачный жидкий свет. Безлюдье. Одичалость.
Пожухлая трава
Уже не пахнет, да и ей осталось
Истлеть до Покрова.
ПРЕДЗИМЬЕ
В предзимье степь скучна:
Линялые пространства открыты взору,
Жалкие растенья склоняют долу венчики свои,
Лишь кой-где по затишкам да в лощинках
Бессмертники цветные петушатся
И гордые головки задирают.
В те года, должно быть, когда ещё ходили богомольцы
За благодатью мимо наших мест,
Они весь вид иначе различали.
Да им-то что – бредут, псалмы слагая.
Господь внимает жалостным напевам:
Откроется оконце в хмуром небе,
Кусочек выси голубой проглянет,
И солнышко их души озарит.
Не то теперь: никто и не дерзает
Брести по невесёлому пространству,
Давно уже не складывают гимнов
Зовущей вечности, и псалмопевцев
Больше не слыхать.
Всяк только ездит на автомобиле,
Стреляет зайцев прямо из машины,
И это называется охотой.
Боже, Боже мой! От этой арматуры,
Этих знаков безбожной обезличенной пустыни
Можно сойти с ума.
Пусть приключение ещё хоть раз случится.
Сюжет завяжется вокруг Живого Слова:
Разлукою, препятствием, надеждой,
И обретением, и узнаваньем мест,
Куда изгнанники должны вернуться снова.
В МЕЖДУРЕЧЬЕ
Я оставил две реки
И без них давно скучаю.
Дона вижу я пески,
Волгу еле различаю.
Лёгкой тенью жизнь моя
Промелькнула в междуречье –
Дымкой на закате дня.
Паутинкой человечьей.
Без меня ты долго тёк,
Дон мой тихий и широкий.
Тут излука на восток,
И фарватер здесь глубокий.
Ну и что, что без меня?
Так же жарко светит солнце,
Та же колкая стерня;
Мать затеплит свет в оконце.
Я скажу тебе, мой друг:
Жизнь не умерла – продлилась.
Выгорела степь вокруг –
Ничего не изменилось.
ВЕТКА
От дерева, посаженного отцом
Году, наверное, в пятьдесят шестом,
Осталась лишь ветка, смотрит в окно,
Пока оно снегом не занесено,
И оттеняет своей наготой
Сумрак густой.
Весной она цветёт, вот тогда
Корни, разросшиеся за все года,
Напояют ветку, она одна
Поглощает соки, которыми бы должна
Питаться вся крона, исчезнувшая за много лет,
Увы, его уже больше нет-
Дерева, посаженного отцом
Году в пятьдесят шестом.
К исходу лета нальются плоды
На единственной ветке, оправдывая труды
Корней, которые потрудились не зря,
Питая ветку; тает заря,
Густеет сумрак, смотрит в окно
Согбенная ветка, делается темно -
Поглотит всё тяжёлая ночь,
Различить предметы сделается невмочь,
И только цикад переливчатый гуд
Окрестности берегут.
Как всё сбылось, как чудесно сбылось –
Не покорёжилось, не оборвалось –
Нисколько не противясь общей судьбе,
Старая яблоня ожила в мольбе
Одинокой ветки, что за нашим окном
Тянется к небу, не думая о былом,
Совсем не жалея о прежних днях,
О спиленных и засохших ветвях
Дерева, посаженного отцом
Году в пятьдесят шестом.
Исчезновенью не верь – оно
Лишь переход, умирает зерно.
Но плодоносит его росток,
Гляди: опять розовеет восток,
Восходит солнце, смотрит в окно
Живучая ветка и всё полно
Жизнью, которой быть суждено
Залогом грядущей вечной весны,
Где сбудутся сны.
- Когда не увидишь меня в саду,
Не плачь: я скоро опять приду,
Ведь смерти нет. Знай, это я
Скриплю калиткой, слушаю соловья,
Незаметно присаживаюсь рядом с тобой,
Тихо молчу, задумываюсь над судьбой,
Припоминаю яблоню, расцветшую в нашем саду
В далёком году.
НА ХУТОРАХ
На хуторах, где даль прозрачна и воздух чист,
Где тешится своим безбрачьем опавший лист,
Под крышей старой камышовой живу, брожу,
На грешный мир, на быт суровый в упор гляжу.
Зайду во двор. Иван Семёныч, хозяин, хват,
Расскажет сумрачную повесть своих утрат.
А заведёт свою машину – давай пахать,
Размалывать родную глину. Бугор ровнять.
Вот так страда, вот так забота! А там – косьба.
Работай до седьмого пота, гей, голытьба!
Давай, давай, давай работай, тащи свой воз,
Пусть фыркает в столицах кто-то: мол, что – навоз.
Прости-прощай моя сторонка, прости-прощай.
О сельщине простой, негромкой мне возвещай,
Где люди, травы, комья глины в тоске полей
Надеждой прежнею томимы, журчит ручей.
Мелькнёшь улыбкой простодушной из-под платка,
Летишь путём своим воздушным, легка-легка,
Остаток почвы перемелешь в летучий прах,
Меня возьмёшь, и все изменишь на хуторах.
***
Воздух холодный, и астры цветут.
Кончились сельские наши денёчки.
Мне о тебе не напишут ни строчки.
Постные сороковины идут.
Сельское Богу приятно житьё.
Вольно мы жили на дальнем отшибе,
Между холмами становья, где сшиблись
Прежняя Русь и кочевье её.
Блеяли овцы в степном закуте.
Крепкий старик и седая молодка
Там, где качалась их юности лодка,
Плыли к своей несказанной мечте…
ПОД РАИНАМИ
(пирамидальными тополями)
Раины высоки,
Их листья говорливы,
Под ними казаки
Справляли именины.
Своих глухих годин,
Меж ними был один,
Объятый горькой думой,
Последышем угрюмым
Он дожил до седин.
Вот тянет песню дней,
Забытых и далёких,
Подле раин высоких
Средь выжженных степей.
Белёс небесный свод,
Горяч калмыцкий ветер.
Клонится день под вечер.
Редеет, гаснет род.
Зачем же высоки
Немолчные раины,
Душе зачем близки
Курганы и куртины
Тех узких тополей?
Гнетёт теченье дней
И самых стойких губит –
Едва лишь жизнь пригубишь,
А там – скорей, скорей –
Неведомо куда
Несётся череда
Белесоватых будней.
И так до склона дней.
Певуч бывал наш род,
Когда в былые лета
К его столу обедать
Ходил степной народ.
И тянет песню дней
Последыш одинокий;
Среди раин высоких
Напев её слышней...
НА ПЕПЕЛИЩЕ
М.И.
Если ты помнишь, у нашего хутора
Мальвы цветут, вдоль пруда
Осень мелькает девчонкой разутою,
К прозими стынет вода.
Ты на казачьем остывшем пожарище
Долго стоял и смотрел.
Где атаман твой и где сотоварищи?
Скуден земной их удел.
Но не горюй! Мы с тобой неуёмные,
Шашку заточим свою.
Хоть и горевшие, хоть и бездомные –
Переплывём полынью.
СТАРИК
Старик жил долго, он и не дряхлел.
В лугах косивший, свежевавший туши,
Игравший песни, пасший коз зимой;
В глухие вечера латал он обувь, сказывал былое:
Как девчонка в него бросала камушки, покуда
Он дремал в развилке старой вербы,
А быки, зайдя по грудь, лакали жадно воду.
Прежнее бывает так памятно, его недостаёт.
Каких-нибудь яслей, гумна, левады,
Ежинки на мордашке у телёнка,
Которого не могут оторвать от вымени…
Так грустно мне, старик!
Как время утекает! Ненавистный
Чудовищный безжалостный поток.
В междоусобных бранях уцелевший –
Ты пал от времени, которое течёт.
Тебя отпели чинно, отчитали и в степь снесли.
Теперь ты там лежишь.
Зимою ветер в проводах стенает.
Весною птицы песни запоют
Как прежде, в тополёвых хуторах.
СТАРОЕ РУСЛО ДОНА У ЧЁРНОГО ОСТРОВА
Камыш. Куга. В закосках мелководных
По щиколотку дно;
Здесь кормятся стада мальков голодных,
А рыбины давно
Ушли на глубину, куда не проникает
Ни солнца луч, ни свет,
Лишь иногда к поверхности всплывают,
Чтоб повстречать рассвет.
Под каршами, среди корней осклизлых
Ленивые сомы
Стоят на ямах и улиток ищут,
Дурные видят сны.
Кабаньи лёжки, да помёт лосиный,
Как сотни лет назад.
Кругом пустынно, но буровит спину
Упорный волчий взгляд.
Дичина древняя, развей чумные чары,
Стряхни с себя века,
Ответь прямым ударом на удары
Исподтишка.
Восторжествуй во всём великолепье
Первоначальных лет,
Когда тебя хранили в лихолетья
Пищаль и арбалет,
Да сабля вострая, да пыл зипунных ратей
Твоих богатырей,
В степях сарматских, скифских в русском платье
Промчавшихся скорей,
Чем щур стремительный. Теперь далёко скачут –
Умчались, пронеслись.
Примятые конями травы встали,
Но всё ж не пресеклись
Следы.
Потомок зрячий
Сакму ту различит,
Пойдёт по следу в поисках удачи
И скроется в ночи.
Взведёт курок, прицельный выстрел грянет
И поразит врага,
И враг уже навеки в небыль канет.
Прошелестит куга…
Лишь коршун в ясном небе кружит-кружит
И по косой скользит.
Река раскинулась. Она неволю сдюжит.
Свой ток не исказит.
ТЕРНОВНИКИ
Терновники сплелись колючей жёсткой чащей,
На склоне под горой укрылся старый сад,
Где прежнее живёт в единстве с настоящим
И дней неверный ход в объятьях веток сжат.
Венец Его пути, терновый и колючий,
С шипами острыми, язвящими чело,
Как будто чащей стал, над ней нависшей кручей,
Той, на которую взойти нам суждено.
***
…Но блаженный ветер снова веет
С тех холмов и с тех равнин.
Мать лицом помолодеет –
Воротился сын.
Воротился ненадолго: глянуть
Хату, огород.
Вот уедет. Станет ждать и вянуть
Долгий нудный год;
Пряжу прясть; вздыхая на иконку,
Будет дни считать,
Детскую худую рубашонку
В сотый раз латать.
В сторону Патмоса
(из III века)
Всякий, кто бывал в Архипелаге,
знает, сколь извилист здешний путь,
мы маршрут читаем по бумаге,
но бумага может обмануть.
Миновали мы гористый Наксос
держим курс на Гиппократов Кос,
где-то рядом остров ссыльных, Патмос,
мне рассказывал один матрос…
Там какой-то важный жил учитель,
может вправду, истинно святой…
Я-то сам пелопонесский житель,
капитан, но человек простой.
Полный штиль. Гребцы грести устали.
Паруса безжизненно висят.
А кругом лишь дали, дали, дали-
заблудились мы среди Киклад.
Долго ждем, когда задует ветер,
воздухом наполнит паруса.
Сколько же всего на этом свете:
море, земли, страны, чудеса…
Ну, а люди, братья по несчастью,
вольные скитальцы по волнам…
Нас как будто предали проклятью,
наши боги стали чужды нам.
Говорят, Бог приходил на землю,
жил среди евреев, где-то там…
Я таких историй не приемлю -
чтобы Бог являлся прямо к нам.
Я лежу на палубе, укрытый
чем-то серым, прямо с головой,
подо мною моря гул сердитый,
небо Средиземья надо мной.
Дуй же, ветер, надувай ветрило -
этак мы до Патмоса дойдем!
Что ж там все-таки такое было?
Холодно мне под худым плащом.
Столько лет прошло среди скитаний!
Столько я всего перевидал!
Говорят, немало предсказаний
Бог через святого передал.
Много нерешенных есть вопросов…
Что кричит мне с мачты вестовой?
- Виден край береговых утесов,
капитан, я вижу Патмос твой!
Тютчев в Греции
(осень 1833 года)
Он с важным порученьем в Навплионе.
Что за столица: камни и трава,
кривые улочки, руины бастиона -
Эллада в древности была не такова.
Не пишется. Приснились Агамемнон,
Кассандра, Клитемнестра и Орест,
их настигает древний демон гневный,
безжалостный отмститель здешних мест.
Обратный путь лежит через Микены:
могилы и гробницы, тишина;
они-то знают, эти рвы и стены,
какая здесь таится глубина,
какая жизнь прошла среди развалин,
какой здесь гул пронесся и затих –
средь бывших портиков, покоев, спален…
Но как все это положить на стих?
Кузнечики стрекочут, небо ясно,
и от вины избавленный Орест
кладет конец отмщениям ужасным
и гонит страх из этих древних мест.
***
Пусть, сбросив удавку финансов,
воспрянет Эллада моя,
с бузукой закружится в танце
в преддверии нового дня.
Пусть злятся ее кредиторы,
она не пойдет в кабалу,
сбежит в олимпийские горы,
продолжит с Европой игру.
Воскреснет ее этерия,
лорд Байрон опять приплывет,
его не сразит малярия,
но князь Ипсиланти спасет.
Они и не знают про евро,
за драхмы им стелют постель,
к ним Пушкин заходит в таверну
и ставит им общую цель.
Гречанка одна молодая
предложит им выпить вина:
пусть всходит свобода златая -
за жизнь! за Элладу! до дна!
Памяти брата
Русские люди не живут долго,
время выламывает им суставы,
дрянные обстоятельства и равнодушье
мостят им дорогу на кладбище.
Или России своих сыновей не жалко,
или выдумана нами Россия
и нет у неё ни души, ни сознанья,
лишь только на карте мы её и видим.
Мы-то её видели близко, да какие наши горизонты –
степь, река да добрые люди,
а потом как поедешь, поедешь...
и повсюду-то одно несогласье,
эта косность, мелочность, лицемерье,
эта трусость рядом с похвальбою,
эта зависть, тупость, вероломство...
Работал как вол, а получал мелочь,
но жить тебе, брат, всегда хотелось.
У порушенной переправы
Вот здесь меня провожали.
Работал старый паром,
скрипели его детали,
пока не пошли на лом.
Когда меня здесь встречали,
то фейерверком ввысь
радости улетали,
искорками вились.
Порушена переправа,
парома давно уж нет,
на том берегу, на правом,
кто-то затеплил свет.
Река совсем обмелела,
по ней островки, хворост.
Под вечер цапля взлетела,
чьи ноги длинней, чем хвост.
Летит неспешная птица,
минуя и глубь, и мель,
а как бы мне изловчиться,
достичь искомую цель.
И я блуждаю в печали,
ищу потерянный брод,
кричу в родимые дали,
зову знакомый народ.
МАТЬ ЗА ХОЛМАМИ
памяти моей матери, скончавшейся в 2017 году на 92-м году жизни
Огромные глаза и озеро большое,
и девочка бежит к прозрачной глубине -
в зелёном платьице, в знакомой стороне,
где степь - бескрайня, небо – голубое.
Ей счастья невозможные куски
жизнь отмеряет. Девочке близки
стрижи, синички и крыльцо родное.
Дед от лисички передаст привет,
вновь каша с тыквой будет на обед,
и бабушка расскажет про былое.
Там вместо сказок голоса времён,
перечисленье родовых имён,
волнующих сердечко молодое.
Как долго длится детство! Глубина
его неисчерпаема, полна
чудесных тайн – и отступает злое.
Цветенье юности, тридцатые года,
тяжёлая победная страда,
косынка, выгоравшая на зное.
Се мать моя. И через бездну лет
она самой себе даёт обет
оберегать наследье родовое.
Вот скрылась за холмами моя мать,
чтобы меньшого сына повидать.
Теперь меня там поджидают трое.
В тумане
Как прежде Шолохов – так я теперь станичник.
Вернувшись на дозор, убогий пограничник,
пытаюсь наблюдать между добром и злом
границу, важную в убожестве своём.
Но смутно всё. Колеблемые тени
врагов добра куда-то улетели.
И где теперь граница, где враги?
Упал туман, и не видать не зги.